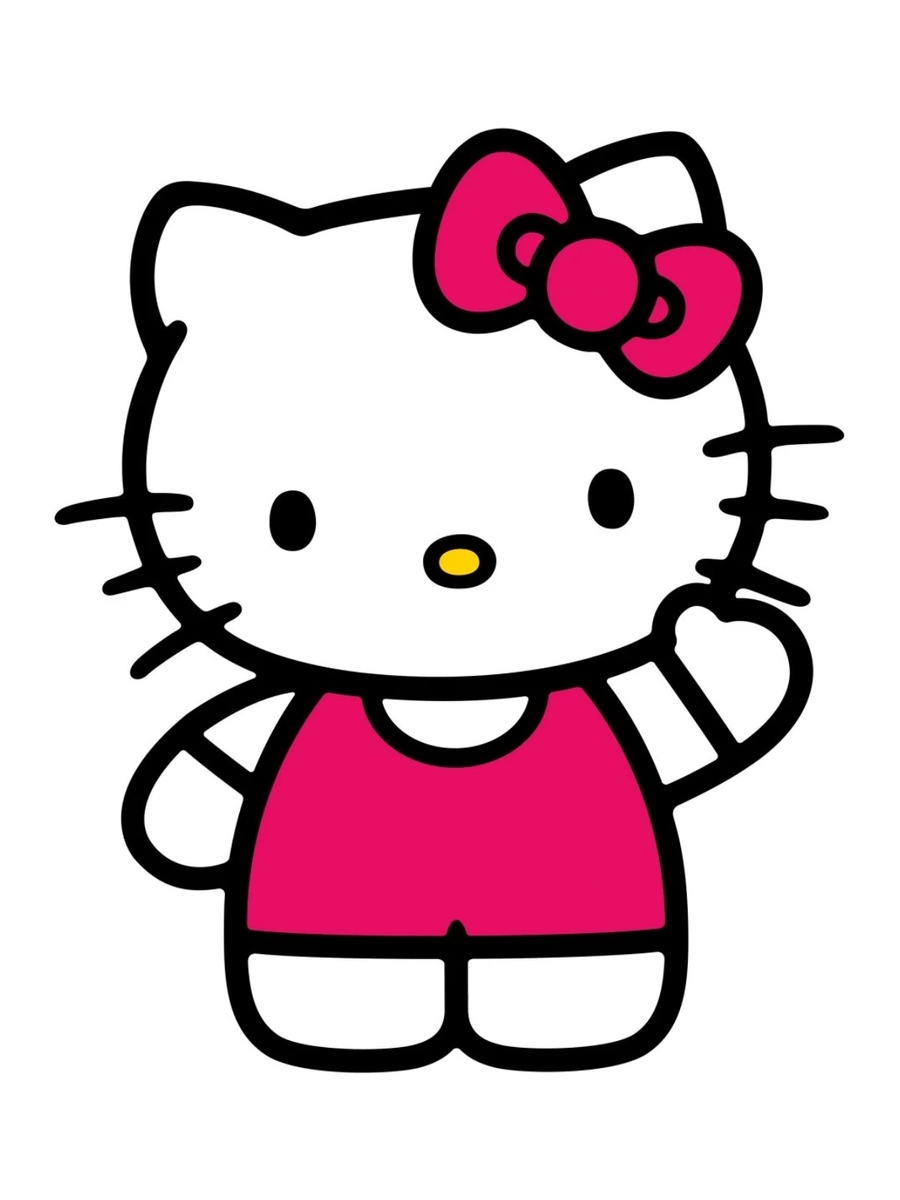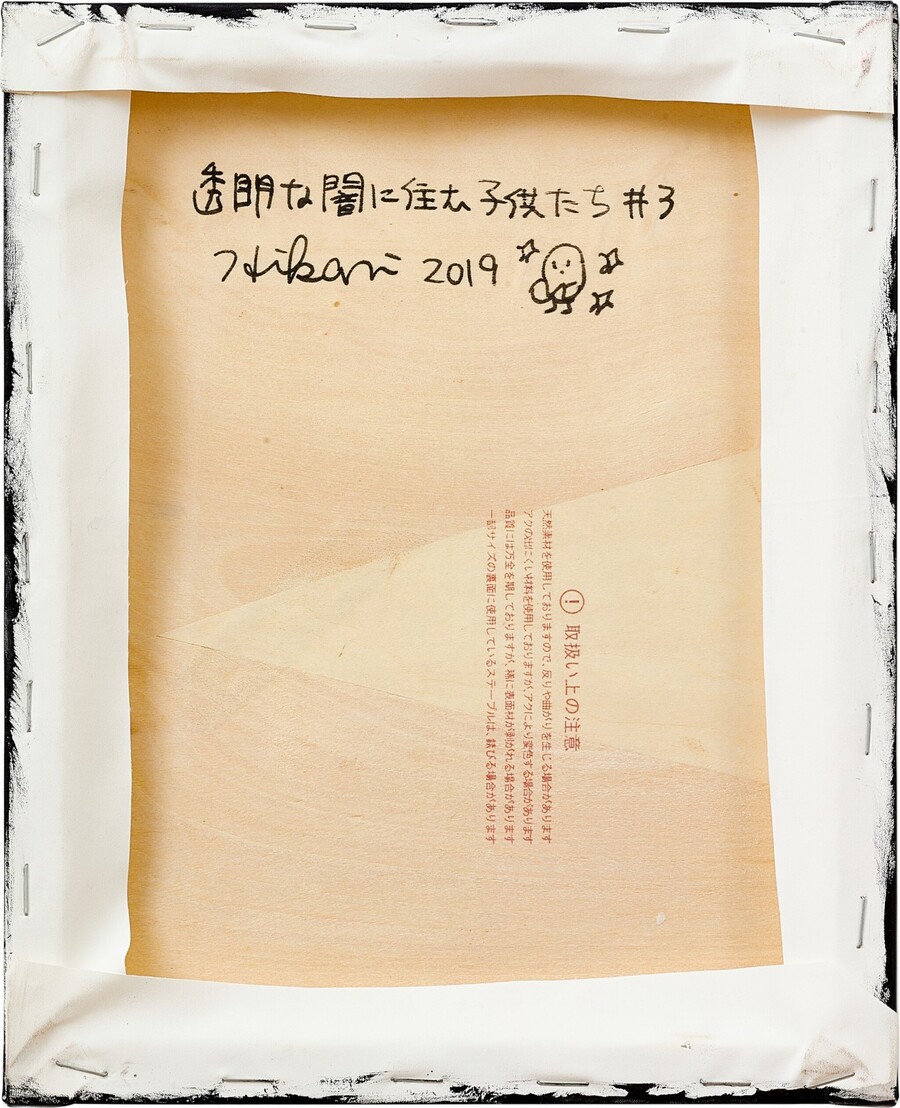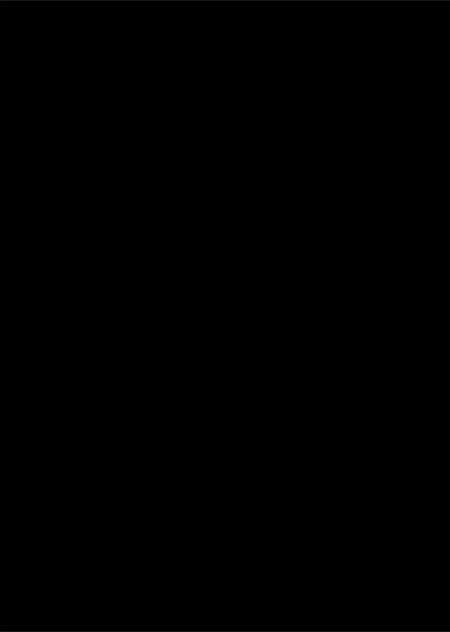
От травмы к коду: механизмы трансформации боли в культурный код
Рубрикатор
1. Концепция 2. Как звук становится связующим звеном в межкультурном понимании <травм> общественного сознания и почему 3. Психология внимания 4. Нужда в «Аватаре» в интернете, возможность сформировать цифровую личность с использованием звука 5. Заключение
Концепция
Данная исследовательская работа является справочным материалом, важным для понимая механизмов художественного мира, созданного мной в рамках альбома «НИМФА».
Взаимосвязь между травмами, болью и их трансформацией в культурное значение уже давно находится в центре внимания критической теории, философии и научных исследований. В контексте саунд-арта эта трансформация приобретает особое материальное и эмоциональное значение: звук действует как носитель памяти и активный агент, преобразующий переживания и страдания в художественное высказывание.
В условиях современной цифровой среды художники имеют возможность работать с травмой не только как с тематическим нарративом, но и в качестве инструмента кодирования и эстетизации, позволяя звуку стать элементом межкультурной коммуникации.
В рамках исследования мне интересно проследить, как боль переходит от субъективного переживания к коллективному культурному коду.
Цель исследования — изучить и продемонстрировать влияние звука на формирование культурного кода в условиях современной цифровой среды и соц-сетей.
Искусство служит пространством рефлексии над травмами — как личными, так и коллективными. Оно фиксирует болезненный опыт, переводя его в символическую форму, доступную для осмысления и переживания другими. В этом процессе индивидуальное страдание или тревога выходят за пределы частного и начинают функционировать как часть культурного опыта.
Именно поэтому искусство не только выражает субъективное, но и объединяет массы: через художественный образ возможно создание общего языка, способного связывать людей с различным жизненным опытом вокруг схожих уязвимостей и историй.
В контексте цифровой среды и социальных сетей звук выполняет сразу несколько функций:
• Психоэмоциональный интерфейс • Эстетическое высказывание • Художественная сублимация • Субкультурная принадлежность
Звук превращается в механизм коллективного распознавания, артикулируя эмоции, публичное воспроизведение которых создает пространство для социального обмена уязвимостью. Боль, стыд, тревога, ностальгия превращаются в формы коммуникации.
В социальных сетях этот процесс приобретает особую динамику: индивидуальная травма становится социально распознаваемой, превращаясь в часть общего звукового ландшафта, где коллективное эмпатическое узнавание выполняет функцию поддержки и эстетизации страдания.
Таким образом, трансформация боли в код — это процесс аудио-культурного перевода, где звук становится не просто носителем эмоции, но и формой её переработки, социального обращения и художественного закрепления, где код имеет двойственную природу, с одной стороны нормализуя опыт страдания, с другой — превращая его в объект эстетического потребления.
2. Как звук становится связующим звеном в межкультурном понимании <травм> общественного сознания и почему
С точки зрения психологии, травма — это глубокое эмоциональное потрясение, вызванное переживанием угрожающего события или ситуации, с которой человек не может справиться. Травма оставляет длительный след в психике, нарушая её нормальное функционирование и восприятие мира, в следствие чего травма переходит в состояние триггера. Триггер, в свою очередь, является «спусковым крючком» к реакции, возбуждая определенные паттерны поведения.
Так, травмы становятся инструментом в искусстве (в частности в музыке), где триггеры используются как точки воздействия, подталкивающие к целевому действию.
Музыка в этом поле приобретает особую агентность. Она не только транслирует эмоции, но и формирует звуковую среду, в которой травма и триггер перестают быть немыми. Благодаря своей телесности и непосредственному воздействию на восприятие, музыка становится неотъемлемым культурным кодом — механизмом передачи опыта, способным объединять и активизировать аудиторию, создавая пространство для совместного проживания и переосмысления боли.
В книге «Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance» (2018) Брэндон ЛаБелль формулирует идею звука как формы действия, способной производить социальное присутствие и инициировать коллективные процессы.
По его словам: «Звук порождает микрополитическую энергию, которая активизирует тела и формирует сообщества»
«Звук становится важной моделью для осмысления и восприятия условий современности, поскольку глобальная культура как интенсивно реляционное пространство требует непрерывной переработки»
Звук, в отличие от визуальных форм репрезентации, действует вневизуально: он не фиксирует, а распространяется, не выстраивает дистанцию, а вплетается в пространство тел и эмоций. Именно эта текучесть и неустойчивость звука превращает его в инструмент мягкой политичности — форму «аффективной микрополитики» (affective micropolitics), где чувственное переживание становится социальным действием.
Звук, таким образом, можно рассматривать как социальный резонанс, создающий формы совместности и взаимодействия, в которых эмоциональные и телесные состояния перерастают в политическую солидарность.
Sonic agency — это способность звука и слушания участвовать в общественной жизни как формы сопротивления, солидарности и переосмысления пространства, тела и сообщества.
Одним из центральных понятий в теории ЛаБелля является идея аффективного сообщества (affective publics) — группы людей, объединённых не институционально, а эмоционально и телесно, через совместное звуковое переживание.
Так, понимание звука как медиума эмоций открывает путь к осмыслению массовых культурных переживаний, где звук становится каналом социальной эмпатии. Именно в этом измерении он обретает способность работать с культурной травмой — коллективным чувственным следом исторического насилия, утраты или отчуждения.
«Динамика аудиального знания предоставляет ключевую возможность для движения через современность, создавая общие пространства, которые не принадлежат никому в частности, но в то же время создают ощущение близости»
Звук позволяет обойти языковые и культурные барьеры. Мелодии, ритмы, тембры могут передавать эмоциональное содержание, не требующее слов.
Примером может служить глобальное признание жанров, связанных с выражением боли: блюз, панк, рейв и так далее. Жанры создают универсальные эмоциональные паттерны, позволяя аудитории узнавать и интерпретировать чужую травму без прямого контекста, что позволяет сформировать субкулткрное понимание звука.
Если принять, что звук формирует сообщества через аффект и телесность, то субкультура может быть понята как организация звукового агентства — форма звукового сообщества, в котором звук становится выражением сопротивления и самоидентификации.
«Субкультура производит значение посредством шума — нарушая порядок смысла и звука, создавая собственную систему кодов» (Hebdige, 1979, p. 90)
Таким образом, звук способен синтезировать социальные идеи, рождающиеся из коллективного опыта, превращая их в культурные формы сопротивления и восстановления.
Блюз. Звук культурной травмы и памяти
С точки зрения ЛаБелля, блюз — классический пример звукового агентства, возникающего из травмы.
Возникая, как музыкальное выражение исторической травмы рабства, сегрегации и социальной маргинализации, он создаёт «аффективное сообщество» слушателей и исполнителей, объединённых не институциональной, а эмоционально-телесной связью.
Пение блюза — это акт переживания и утверждения присутствия, буквально «быть услышанным» в обществе, которое исторически лишало голоса.
Так, блюз выполняет функцию культурной переработки травмы: сохраняя память о боли, жанр превращает страдание в коммуникацию, и создает коллективную идентичность через совместное звучание.
Можно сказать, что блюз — это первое звуковое гражданство (sonic citizenship) афроамериканской культуры, в котором голос становится политическим инструментом.
Пост-панк. Звук отчуждения и оппозиции
Жанр возникает в конце 1970-х как ответ на кризис индустриального общества, безработицу, депрессию и потерю утопий. Если панк был взрывом протеста, то пост-панк — рефлексия после взрыва, звук внутреннего распада.
В логике ЛаБелля, это другая форма звукового агентства — агентство разрыва и аффективного отчуждения.
Пост-панковское звучание (холодные басы, механистичные ритмы, монотонный вокал) превращается в акустический образ социальной изоляции и одновременно в средство сопротивления ей.
Субкультура пост-панка — это «структурированное нарушение», в котором звук и стиль становятся знаками отчуждения.
Монохромная одежда, холодный минимализм, звук индустриальных барабанов — это код оппозиции, символический протест против потребительской культуры и политической апатии.
Пост-панк не просто выражает разочарование — он создаёт коллективное переживание пустоты. Люди объединяются, чтобы вместе чувствовать отчуждение, превращая его в форму идентичности.
Рэп. Звук сопротивления и коллективного исцеления
Пожалуй, самый насыщенный пример звуковой агентности, объединяя аффект, тело, протест, травму и коллективное переживание в мощный социальный медиум.
Рэп зарождается в 1970-х в афроамериканских кварталах Бронкса (Нью-Йорк) как уличная практика самовыражения, выросшая из устной традиции африканской диаспоры — ритмического речитатива, звукового сторителлинга, криков и импровизаций.
Истоки жанра тесно связаны с диджеингом, брейкингом и граффити — другими формами городской субкультуры, формирующими пространство, где маргинализированные сообщества восстанавливают право на голос, видимость и тело.
Рэп можно рассматривать как звуковую переработку культурной травмы афроамериканского опыта: рабства, насилия, бедности, институционального расизма.
Если блюз осмыслял травму через меланхолию, то рэп артикулирует её через гнев и самоутверждение: он создаёт аффективное пространство силы, где травма не только проговаривается, но переписывается через энергию и контроль над ритмом, что говорит о возможностях разного прочтения и переработки культурного кода с течением времени на уровне звука.
Хебдиж писал, что субкультура существует как «символическое нарушение», и рэп идеально иллюстрирует это, используя язык угнетателей (английский), чтобы создать автономный дискурс. Это язык улицы, где грамматическая девиация, сленг и ритмическая агрессия становятся политическим кодом, что превращает звук в оружие семиотического сопротивления.
«Субкультура присваивает знаки власти и обращает их против системы» — Дик Хэбдидж «Субкультура: значение стиля», 1979
В постиндустриальном и цифровом контексте рэп сохраняет и усиливает свою звуковую агентность.
Жанр стал глобальной акустической платформой, где локальные сообщества используют звук как инструмент артикуляции локальных травм: расовых, политических, экономических.
Современный рэп не просто протестует — он воплощает distributed listening, о котором пишет ЛаБелль: распределённое слушание, в котором звук объединяет дисперсные субъекты через цифровые медиа, создавая сетевое звуковое сообщество.
Музыка перестает быть только эстетическим объектом: она становится средством межкультурной эмпатии, а звук — инструментом социального понимания боли.
3. Психология внимания
Внимание — один из центральных психических процессов, обеспечивающий направленность и концентрацию сознания. Теодюль Рибо одним из первых показал, что внимание — не абстрактная способность души, а конкретная функция мозга, подчинённая физиологическим и психологическим законам. Оно развивается, претерпевает колебания и может нарушаться.
Механизм внимания Рибо видел в сенсорном отборе: из множества впечатлений часть усиливается, а конкурирующие подавляются.
Внимание тесно связано с памятью и ассоциациями: мы легче сосредотачиваемся на том, что имеет связь с уже знакомым или значимым опытом. Также, при психических расстройствах внимание принимает патологические формы: чрезмерную рассеянность, навязчивую фиксацию на отдельных мыслях, неспособность к концентрации. Для Рибо это было доказательством, что внимание не является чем-то «чистым» и идеальным, а зависит от состояния нервной системы.
Ярким примером механизма психологии внимания являются общественные (коллективные) травмы. В широком понимании, общественная травма — это негативное воздействие на общество из-за крупных событий, которые затрагивают большое количество людей. Такие события могут быть связаны с войнами, террористическими актами, естественными катастрофами, политическими репрессиями и другими массовыми трагедиями, меняющими коллективное сознание: общие убеждения, ценности и поведенческие паттерны в обществе.
Так как коллективные травмы носят массовый характер, внедрение подобного триггера является мощным инструментом с точки зрения психологии внимания.
Лидирующую позицию по захвату внимания в медиа путем спекуляции на общественно-культурных травмах занимает неподражаемый Канье Вест.
Громкие заявления, острые высказывания и высмеивание общественных норм и устоев: Канье часто действует на стыке искусства и провокации. Он создаёт образы, которые шокируют, заставляют говорить, обсуждать. Это способ получить внимание, заставить публику реагировать, а не просто наблюдать.
«Slavery was a choice»
Именно с этого заявления в 2018 году началась кампания «White lives matter». Заявление о рабстве как о «выборе» вскрыло одну из ключевых травм афроамериканской идентичности.
В 2022 году в рамках показа коллекции YZY SZN 9 (Ye / Yeezy Season 9) на парижской неделе моды Канье вышел на публику в футболке с надписью «White Lives Matter». Сам Канье прямо говорил, что движение Black Lives Matter стало инструментом манипуляции и коммерциализации: «Black Lives Matter was a scam».
В этом смысле его футболка — это насмешка не над самими идеями равенства, а над тем, как протест превратился в бренд, а лозунг — в товар.
Реакция показала: тема рабства в США до сих пор не закрыта, она по-прежнему чувствительна.
В том же 2022 году Канье продолжает привлекать внимания антсемитскими высказываниями: утверждения о «еврейском контроле» (например — намёки, что «евреи» стоят за его блокировкой в соцсетях), твит «I’m going death con 3 on JEWISH PEOPLE» (в переводе — «я перехожу в режим 'death con 3' против еврейских людей», пост удален, так как в совокупности с другими высказываниями привел к блокировке аккаунта), повторяющиеся утверждения о «контроле евреями медиа/банков», о «планах и заговоре», а также попытки «переформулировать» исторические преступления/события (включая трения вокруг Холокоста и других тем), а также посты с антисемитской риторикой и изображениями (включая свастику в сочетании с еврейскими символами).
Позднее, в феврале 2025 он опубликовал серию сообщений, в которых заявлял: «Я нацист» и «Теперь я люблю Гитлера, черт возьми», «Я могу говорить „еврей“ столько, сколько хочу, я могу говорить „Гитлер“ столько, сколько хочу… Гитлер был таким классным»
Гитлер, Холокост — самые табуированные темы западной культуры. Заявление о том, что ты «видишь хорошие вещи в Гитлере» — это вызов, попытка взглянуть на запрещенные вещи иначе. Подобные высказывания почти гарантированно вызывают отклик, обсуждение, споры — бесплатно, быстро, с огромным охватом.
Канье часто говорит о том, что он чувствует себя неправильно понятым, что на него возлагают определённые ожидания (от артистов, от черных людей, от известности). Часть его заявлений — это способ вернуть контроль над тем, как его воспринимают.
Футболки White Lives Matter, твиты с упоминанием Гитлера, публичные заявления о нацизме — это использование визуальных и словесных символов, которые шокируют и привлекают внимание, а апология Гитлера и утверждение, что «Гитлер был таким классным», — это попытка пересобрать историческую память. Канье делает это через медийный перформанс, а не через организационное политическое движение, но эффекты его слов схожи с механизмами пропаганды: привлечение внимания, нормализация радикальных идей, радикализация аудитории.
Культура отмены, разрывы контрактов и массовая реакция людей на поведение и высказывания мистера Веста является подтверждением, что механизм психологии внимания действительно работает на уровне общественного культурного кода: достаточно упомянуть триггерную точку, как общество мгновенно приписывает контекстуальные смыслы, связанные с травмой, отложившейся в массовом сознании.
Канье использует культурные символы на протяжении всей карьеры: на снимке выше артист в сопровождении бывшей жены в футболке с изображением всемирно известного культового персонажа Hello Kitty.
Персонаж появился в 1974 году в японской компании Sanrio, основанной как производитель сувениров. Интересным фактом является то, что у Hello Kitty нет рта, что интерпретируется как универсальность — зритель сам «проецирует» свои эмоции. Персонаж закрепил в массовом сознании японскую эстетику «милоты», которая противопоставлялась суровой реальности.
В условиях культуры Японии после Второй мировой войны, атомных бомбардировок, травм поражения и последующей милитаристской стигмы, а также стремительного западного влияния и модернизации, кавай-культура стала «антидотом», позволяющим вернуться к наивности и безопасности. Hello Kitty стала символом утешения, «эмоционального якоря».
Феномен Hello Kitty также можно рассмотреть в контексте термина пост-кавай: термин возник относительно недавно, в японской и международной интернет-культурах. Он описывает эстетическое движение, которое берёт за основу традиционное японское «кавай» (kawaii — «милое, очаровательное») и сознательно его деформирует, травмирует или делает более мрачным и тревожным, добавляя элементы абсурда или психоделики.
«Пост-кавай» подразумевает эстетическую реакцию на коллективные травмы общества: Милые мемы, кукольные образы и фан-арты начинают выглядеть чужими, когда сталкиваешься с реальностью стресса, пандемий, экономической нестабильности. Пост-кавай показывает эту диссонанс: «мир милоты» не спасает от травмы. Это способ «пережить» травму визуально: через юмор, гротеск и иронию. Это похоже на терапевтическую технику, где через художественное выражение человек обрабатывает свои страхи, тревогу и социальные проблемы.
Психология внимания через призму триггеров показывает, что наше сознание не свободно в выборе объектов. Оно управляется стимулами, которые активируют базовые механизмы мозга — эмоции, память, потребности. Триггеры захватывают внимание именно потому, что они глубже и сильнее воли, что позволяет успешно использовать технологию удержания в медиа и искусстве.
4. Нужда в «Аватаре» в интернете, возможность сформировать цифровую личность с использованием звука
Цифровое пространство в современных реалиях играет большую роль в построении личности. Люди уделяют значительную часть времени и ресурса проработке цифровой персонализации, что приводит к пограничному восприятию совбственного Я, оторванного от объективной реальности. В обширном доступе интернет пользователя находится огромное количество эстетик и субкультур, с помощью которых каждый имеет возможность закрыть потребности и запросы в подавлении негативных эмоций, комплексов, травм или же выразить свое творческое Я в ирреальном воплощении.
Таким образом, создание цифрового аватара становится актом психо-эстетического выживания, который позволяет вынести наружу внутренние конфликты, сохраняя контроль над их формой.
Если в прошлом личность артикулировала себя через телесный, визуальный или текстовый образ, то сегодня этот образ всё чаще выражается через звук.
В социальных сетях, где внимание распределяется мгновенно и массово, звук становится формой цифровой идентичности, а выбор музыкального фрагмента — актом самопрезентации.
Например, фрагменты треков Phoebe Bridgers, Mitski или Cigarettes After Sex используются в контенте, связанном с темами одиночества, депрессии, потери. Слушатели/пользователи используют эти звуки, как инструмент репрезентации мировоззрения, что радикально меняет современный подход к построению личности.
Пользователь, создающий контент, становится аудиальным субъектом: в этом контексте рождается новая форма существования — «звуковой аватар», в котором личная эмоция, травма или память обретают символическую и общественную форму. Создание цифрового аватара — это не просто эстетический акт, но и психологическая необходимость.
Аватар позволяет дистанцироваться от внутреннего опыта, перевести его в управляемую форму. Для поколения, выросшего внутри сетевых медиа, это наименее деструктивный способ переживать боль через образ.
По мысли Донны Харауэй, в постгуманистической перспективе человек существует в гибридном состоянии — между биологическим и технологическим, между личным и сетевым. Аватар, в этом смысле, является формой «совместного бытия со смутой»: он позволяет удерживать внутренний разлад в символической структуре, не стремясь его устранить.
Донна Харауэй предлагает мыслить человека и технологию не как оппозиции, а как соучастников одной сети существования, позволяя научиться сосуществовать с противоречием.
Цифровой аватар, звучащий в пространстве социальных сетей, воплощает именно эту идею.
Алгоритмы социальных платформ функционируют как новые посредники эмоций. TikTok, Spotify, YouTube не просто отображают предпочтения — они формируют эмоциональные траектории, подбирая контент на основе паттернов поведения, частоты прослушиваний, времени суток, даже темпа музыки.
В результате пользователь оказывается внутри алгоритмического нарратива, где его внутренние состояния отражаются в подобранных звуках. Это создает эффект обратной эмпатии: алгоритм «узнаёт» боль и возвращает её в виде музыкальной рекомендации.
Так рождается феномен «цифровой меланхолии»: когда платформа становится зеркалом психического состояния, а подборка песен портретом внутреннего мира.
Звук становится языком цифровой эмпатии, понятным независимо от культурных границ.
Марк Фишер в книге «Ghosts of My Life» определяет хонтологию как культуру призраков утраченного будущего.
По его мысли, современное искусство не создает новое, а призывает тени возможного, которых мы лишились. Звук становится медиумом между настоящим и тем, чего не случилось.
Эта парадоксальная ностальгия превращает слушателя в свидетеля «призраков культуры» — обрывков коллективных грёз, утраченных вместе с верой в будущее.
Хонтологический звук — это эхо отсутствия. Он вызывает чувство ностальгии по миру, которого никогда не было, но который ощущается до боли знакомым.
В цифровом пространстве эффект хонтологии усиливается: короткие аудиофрагменты, шумовые фильтры, эффект плёнки, искажённый битрейт — всё это создаёт иллюзию прошлого, встроенного в настоящее. Мы как будто слушаем не музыку, а воспоминание о ней.
Звук становится порталом в несуществующие пространства — комнаты памяти, торговые центры, радиопомехи, где присутствие смешано с утратой.
Такая эстетика превращает цифровое пространство в аудиальное кладбище эмоций, где каждый звук — это тень чувства, которое не умерло, но не может жить.
цитата фишера
Цифровой аватар существует в состоянии онтологической призрачности. Когда человек выражает себя через звук, встроенный в социальный медиаконтент, он фактически создаёт свою собственную хонтологию: личная боль становится частью коллективного призрака — звука, который все узнают, но никто не может точно локализовать. Он существует на границе между присутствием и исчезновением, между искренностью и постановкой.
Именно это пограничное состояние делает цифровую идентичность столь притягательной: она живёт там, где реальность встречается с воспоминанием.
вывод:
В цифровом мире звук становится основой идентичности, формой психической и культурной коммуникации. Создание звукового аватара — это способ одновременно скрыться и открыться, дистанцироваться и быть узнанным. Звук выполняет роль эмоционального интерфейса, где личное переживание перерабатывается в коллективный код. Таким образом, цифровая среда превращается в акустическое пространство памяти, где травма звучит не как крик, а как резонанс. А звук — становится тем, что связывает людей, алгоритмы и образы в единую ткань культуры, где боль больше не является концом, а становится точкой связи.