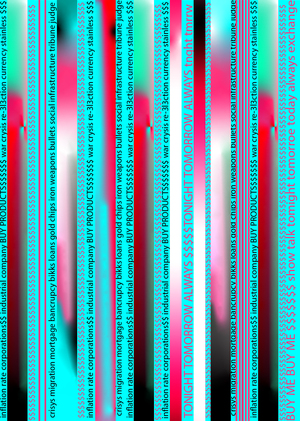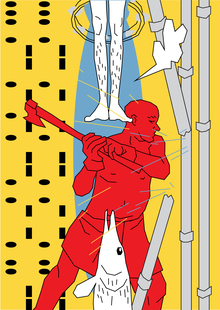ДИАЛОГ СО ЗВУКОМ
Содержание
1. Концепция 2. Призма диалога, или Кто такой Сергей Филатов 3. Диалог Филатова и Звука 4. Мир скульптур 5. Заключение 6. Библиография
Концепция
Проект ставит целью экспериментально изучить художественный метод Сергея Филатова, в котором звук раскрывается не как абстракция, а как проявление физических процессов — вибраций, электрических токов и магнитных полей. С помощью видеосъёмки выставок и перформансов, сделанной командой Сергея Филатова, мы исследуем, как зритель воспринимает такие работы: как художественное высказывание или как научную иллюстрацию.
Основной вопрос проекта — действительно ли Филатов создаёт новую творческую среду, в которой физические явления выступают не просто инструментами, а активными «соавторами» произведения, или его инсталляции остаются в пределах лабораторного опыта, демонстрирующего законы природы без художественного переосмысления.
Призма диалога, или Кто такой Сергей Филатов

Сергей Филатов — художник и музыкант, который заставляет электричество петь. На стыке скульптуры и экспериментального звука он создает удивительные миры, где металл звучит, а электронные схемы становятся голосом его произведений.
Интерактивные, звучащие конструкции художника из проводов и компонентов оживают при взаимодействии со зрителем, превращая его в соавтора и погружая в уникальный синестетический опыт.

Филатов также активный участник музыкальной сцены экспериментальной, эмбиент и нойз-музыки. Он выступает с сольными перформансами и в коллаборациях с другими музыкантами. Его концерты — это импровизации, рождающиеся в диалоге с уникальными инструментами. Звучание характеризуется как глубокий, медитативный электроакустический дрон, насыщенный обертонами и аналоговыми текстурами. Сотрудничал с такими музыкантами, как Владимир Мартынов (композитор), участвовал в проектах с ансамблем старинной музыки.
Диалог Сергея Филатова и Звука
На концерте «Облака обертонов» Сергей Филатов вступает в тонкий диалог с самой сущностью звука, выступая не как его создатель, а как внимательный исследователь. Его подход напоминает одновременно алхимический опыт и научный эксперимент: уникальные инструменты — ЭлектроЛира и Магнетор — функционируют как высокочувствительные интерфейсы, раскрывающие скрытые физические явления и делая их слышимыми.
Вместо исполнения фиксированной партитуры Филатов импровизирует, исследуя акустические характеристики пространства и материалов в реальном времени.
Его метод — это активное «опрашивание» среды: изменение электрического напряжения, приближение магнитов к проводящим поверхностям, инициация цепей обратной связи. Каждое физическое вмешательство становится попыткой раскрыть внутренний звуковой потенциал объектов — тот, что обычно остаётся за пределами обыденного восприятия.
Сольный концерт «Облака обертонов» Сергей Филатов — ЭлектроЛира, Магнетор, электроника
Ответом на эти звуковые «запросы» и становятся «облака обертонов» — хрупкие, пульсирующие структуры, возникающие не по замыслу композитора, а в результате взаимодействия с физической средой. Филатов не конструирует их из готовых элементов, а выявляет и организует из «сырого» акустического материала, предоставляемого самой материей. Центральное место в этом процессе занимают обертоны — высшие гармоники, сопутствующие основному тону, которые художник выделяет, усиливает и сплетает в дрейфующие, многоголосые звуковые кластеры.
Подобная практика требует не исполнительской виртуозности, а развитого слухового внимания и интуиции, способной улавливать мимолётные резонансы и микрособытия
В этом смысле Филатов выступает как переводчик языка материи: он интерпретирует электрические шумы, электромагнитные колебания и акустические резонансы, превращая хаотические физические процессы в утончённую, медитативную звуковую архитектуру.
Мир Скульптур
Мир скульптур Сергея Филатова представляет собой не просто художественное слияние звука и формы, а сложную динамическую систему — своеобразную сенсорную экосистему, в которой неодушевлённая материя обретает способность «говорить».
Отказываясь от традиционной роли композитора как автора фиксированного музыкального текста, Филатов выступает в роли конструктора условий для взаимодействия: звук в его работах не наслаивается на объект извне, а возникает как прямое следствие его физических свойств.
Электромагнитные поля микросхем трансформируются в речь вакуумных ламп, колебания струн под действием магнитных полей формируют «облака обертонов», а механическое трение и контакт различных материалов генерируют спонтанные ритмические структуры.
Сад ускользающих соноров, 2020
Художник действует как исследователь, выявляющий латентные акустические потенциалы проводников, диэлектриков и электрических цепей. Его метод заключается в том, чтобы «разбудить» скрытую звуковую активность материалов — металла, стекла, кремния — и предоставить им статус активных участников творческого процесса. В этом смысле каждый элемент инсталляции становится соавтором, чей вклад определяется не эстетическим замыслом, а физическими законами и индивидуальными характеристиками вещества.
Такой подход формирует художественное напряжение на стыке предсказуемости и случайности.
С одной стороны, Филатов задействует точные технические решения — программируемые контроллеры, синхронизированные алгоритмы, временные сетки, как, например, в работе с ансамблем механических «метрономов». С другой — он сознательно оставляет место для непредопределённости, внимательно фиксируя нерегулярности, шумы и отклонения, которые возникают в результате естественного поведения материалов. Именно в этом балансе между контролем и автономией рождается уникальная выразительность его произведений.
Московский музей современного искусства и галерея «Триумф»
«Я слышу тебя» персональная выставка
Москва, 2022
В итоге скульптуры Филатова функционируют как живые организмы: они дышат электрическими импульсами, пульсируют резонансами и вступают в акустический диалог друг с другом и с окружающей средой. Выставочное пространство трансформируется в лабораторию восприятия, где звук и вибрация становятся объектами медитативного созерцания. Зритель здесь — не потребитель готового произведения, а наблюдатель за тонким процессом, в котором техника обнажает свою внутреннюю поэтику, раскрывая почти мистическую способность материи к звучанию.
Parallel Touch (2019)
Двадцать автономных механизмов, распределённых в пространстве подобно метрономам, генерируют каждый свой индивидуальный ритм, в котором заложена естественная, почти биологическая неточность. Их медитативный звуковой узор возникает в результате физического взаимодействия стеклянных шаров с кварцевыми дисками — хрупкое соприкосновение материалов, раскрывающее их скрытую акустическую природу и превращающее инертные объекты в источники тонкого, «поющего» звучания.
Восприятие этой звуковой скульптуры начинается с ощущения хаоса: зритель сначала сталкивается с множеством разноритмичных импульсов, не подчинённых единому метру. Однако по мере погружения его слух начинает выделять отдельные ритмические ячейки, распознавать их цикличность и прослеживать сложные интерференции между ними.
Этот процесс напоминает акустическую калибровку сознания — переход от поверхностного слушания к глубинному восприятию временной структуры.
Медитативное состояние достигается в тот момент, когда внимание смещается с внешнего звука на внутреннее ощущение времени. Наблюдатель начинает воспринимать не просто ритмы, а саму ткань временного потока — живую, дышащую, лишённую идеальной механической точности. Именно «лёгкое дыхание неточности», вносимое физическими особенностями каждого механизма, наделяет звуковую среду органичностью и пульсацией, близкой к биологическим ритмам.
Физическое присутствие зрителя становится неотъемлемой частью опыта: перемещаясь в пространстве, он то погружается в плотный звуковой фон, где все голоса сливаются в единый гул, то выделяет отдельные линии, словно настраиваясь на конкретный «инструмент».
Тактильное измерение усиливается за счёт вибраций, передающихся через пол и воздушную среду, — звук здесь не только слышен, но и ощущается телом как физическое явление.
Кульминацией взаимодействия становится осознание собственной включённости в процесс: дыхание и сердечный ритм наблюдателя невольно синхронизируются с пульсацией скульптуры. Таким образом, технически выстроенная система трансформируется в интимный перформанс, где граница между объектом и субъектом стирается, а физическое явление обретает глубоко личное, почти духовное измерение.
Ротатор — 4 (2019)
Инсталляция генерирует ритм посредством минималистичного, но выразительного физического действия — перемещения постоянного магнита вблизи четырёх магниточувствительных сенсоров. Возникающий электрический сигнал проходит этапы усиления и частотной фильтрации, после чего равномерно распределяется между четырьмя динамиками, расположенными симметрично в пространстве. Такая конфигурация создаёт объёмное звуковое поле, обеспечивающее эффект полного акустического погружения.
Взаимодействие зрителя с инсталляцией начинается с осознания жеста как первичного акта звукообразования. Наблюдая за медленным, почти ритуальным движением магнита, человек фиксирует прямую причинно-следственную цепочку: механическое перемещение → изменение магнитного поля → генерация электрического сигнала → его трансляция в звук. Эта прозрачность процесса устраняет традиционную опосредованность технологий и делает физику слышимой.
Первый уровень диалога формируется именно в момент преодоления «невидимости»: зритель становится свидетелем трансформации нематериального поля в ощутимое звучание. Здесь технология перестаёт быть чёрным ящиком и раскрывается как живой процесс, в котором материя — магнит, датчик, ток — обретает выразительную силу.
На втором уровне взаимодействие приобретает телесное измерение. Квадрофоническая организация звука окружает наблюдателя со всех сторон, стирая границу между источником и воспринимающим. Звук перестаёт быть внешним стимулом и начинает резонировать с внутренними ритмами тела — дыханием, сердцебиением. Пространство между динамиками функционирует как гигантская резонансная камера, в которой человеческое тело включается в акустическую цепь: вибрации передаются через кости черепа, грудную клетку, кожу, превращая слушателя в активный элемент звуковой системы.
Кульминацией этого процесса становится переход от пассивного восприятия к со-творчеству. Зритель обнаруживает, что его перемещение в пространстве модулирует звуковой образ, а внутреннее чувство ритма невольно синхронизируется с генерируемыми паттернами. Простой жест художника находит отклик не в сознании, а в теле наблюдателя, завершая трансформацию технического механизма в интимный акт общения — где технология выступает не как инструмент, а как язык, на котором материя говорит с человеком.
Subtle Сonnection (2019)
Музыку в этой инсталляции порождает невидимая физическая сила — инфразвук. Четыре низкочастотных излучателя наполняют пространство колебаниями, лежащими за пределами слышимого диапазона, которые, однако, обладают достаточной энергией, чтобы управлять движением лёгких алюминиевых скульптур, помещённых в прозрачные резонансные чаши. Под воздействием этих неощутимых волн металлические формы приходят в состояние постоянной трансформации: они дрожат, вращаются, сталкиваются и складываются в динамические композиции, превращая звуковое искусство в кинетическую скульптуру, где звук становится видимым через движение материи.
Взаимодействие зрителя с инсталляцией начинается с парадокса: наблюдатель видит гипнотический танец металлических объектов, но не может обнаружить источника движения. Отсутствие видимой механической связи создаёт эффект чуда, который постепенно разрешается в понимание — визуальный образ становится единственным индикатором присутствия инфразвукового поля.
Таким образом, зритель вступает в диалог с тем, что недоступно прямому восприятию, и учится «видеть» звук через его физические следствия.
Со временем формируется осознание: перед ним — визуализация звукового поля, в котором колебания воздуха материализуются в пластике металла. Алюминиевые скульптуры выступают как чувствительные индикаторы акустической энергии, превращая абстрактные волны в осязаемую, зримую динамику. Это переход от иллюзии к научной интуиции — звук здесь не слышен, но он безусловно существует, и его можно прочитать в движении.
Второй уровень диалога реализуется через телесное восприятие. Несмотря на то что инфразвук не регистрируется слуховым аппаратом, он ощущается всем телом: как изменение давления в грудной клетке, лёгкая вибрация в костях, едва уловимое напряжение в коже. Это смещает эстетическое переживание с уровня рационального восприятия на уровень соматической чувствительности, где доверие к ощущениям заменяет привычную опору на слух.
Зритель начинает «чувствовать» звук, а не слышать его.
Кульминацией взаимодействия становится осознание собственной включённости в систему. Перемещаясь в пространстве, наблюдатель изменяет акустическую топографию: его тело отражает, поглощает и модулирует инфразвуковые волны, тем самым влияя на поведение скульптур. Человек превращается в живой сенсорный элемент, преобразующий невидимые физические процессы в многомерное переживание, объединяющее визуальное, тактильное и эмоциональное. Инсталляция таким образом стирает границу между субъектом и объектом: зритель не просто наблюдает за танцем металла — он физически находится внутри самого звука.
Созвучие и сопричастность 2/3 (2020)
Инсталляция создаёт умиротворяющее звуковое поле, синтезируя два принципиально разных акустических подхода. Первый основан на прямом физическом взаимодействии: зритель может извлечь чёткую, простую мелодию, потянув за струну — жест, напоминающий действие на струнном инструменте. Второй метод не требует тактильного контакта: переменное магнитное поле возбуждает струны дистанционно, вызывая их автономные колебания и порождая плотные, постоянно трансформирующиеся звуковые структуры — так называемые «облака обертонов». Эти слои звука лишены мелодической определённости, но обладают богатой тембровой глубиной и пространственной подвижностью.
Диалог зрителя с инсталляцией инициируется через осознание этой двойственности. На первом этапе внимание привлекает привычный, почти инстинктивный способ взаимодействия — механическое воздействие на струну, дающее немедленный и предсказуемый акустический отклик. Такой жест создаёт иллюзию контроля и вовлекает наблюдателя в процесс на уровне телесной активности, укрепляя ощущение агентности.
Однако в момент, когда палец отпускает струну, начинается второй, более сложный этап взаимодействия.
Струны продолжают звучать уже без внешнего вмешательства, рождая «облака обертонов» — дрейфующие звуковые образования, управляемые исключительно физикой электромагнитного поля. Зритель оказывается перед параллельным сосуществованием двух звуковых миров: одного — управляемого, человеческого, другого — автономного, природного.
Это сопряжение порождает особое созерцательное состояние. Внимание смещается с отдельных нот на пространство между звуками, на их взаимопроникновение и резонанс. Рукотворная мелодия и спонтанные обертоны переплетаются в единую медитативную ткань, где граница между инициированным и самовозникающим звучанием постепенно стирается.
Завершается диалог переходом от действия к восприятию.
Первоначальное стремление «сделать звук» уступает месту погружению в само явление звучания: наблюдатель следует за тем, как механический импульс порождает чёткий тон, а невидимая энергия магнитного поля — объёмные, пульсирующие тембры. В этот момент зритель осознаёт свою двойственную роль: он одновременно и причина, и свидетель, и соучастник, и наблюдатель. Именно в этой точке пересечения — где заканчивается жест и начинается чистая вибрация — рождается подлинный диалог между человеком и материей, опосредованный законами физики и поэтикой звука.
СоноКонтур (2018)
Эта звуковая скульптура генерирует медитативные акустические структуры, ассоциативно отсылающие к звучанию храмовых колоколов. В её основе — четыре мельхиоровые чаши, закреплённые на общей оси и обладающие индивидуальными резонансными характеристиками, что наделяет каждую собственным «голосом». Запрограммированный алгоритм управляет серией прецизионных ударных механизмов, которые поочерёдно приводят чаши в колебание. В этом взаимодействии механического движения и металлической материи раскрываются глубина, длительность и тембральное богатство звука, обусловленные физическими свойствами сплава и формой резонаторов.
Восприятие инсталляции начинается с погружения в целостное акустическое поле, где звук перестаёт восприниматься как последовательность отдельных нот и становится атмосферой. Медитативные, обертононасыщенные тембры создают эффект сакрального пространства, вызывая состояние вневременности и внутренней сосредоточенности. Постепенно слух начинает дифференцировать четыре уникальных тембра, а визуальная организация — симметричная композиция чаш на общей оси — позволяет глазу сопровождать происхождение каждого звукового слоя.
Таким образом формируется синестетический опыт, в котором аудиальное и визуальное сливаются в единый перцептивный поток.
Физическое присутствие зрителя активно участвует в формировании этого опыта: перемещаясь в пространстве, он открывает разные акустические перспективы — от полифонического слияния всех голосов в единый звуковой хор до избирательного фокуса на отдельной чаше. Наблюдение за механическим движением ударных элементов добавляет ещё один сенсорный регистр: видимое действие молоточков напрямую связано с возникновением звука, что обеспечивает ощущение прозрачности процесса.
Несмотря на алгоритмическую природу управления, система воспринимается как органичная и понятная — каждое движение имеет свой акустический след.
Кульминацией взаимодействия становится осознание материальности звука как физического явления. Холодный, инертный металл обретает голос, начинает вибрировать, «дышать», излучать длительные, затухающие звоны. Алгоритм здесь выступает не как доминирующая сила, а как посредник, инициирующий диалог между формой и энергией. Зритель, в свою очередь, становится не оператором, а внимательным свидетелем — соучастником процесса, в котором раскрывается скрытая поэзия материи: каждый чистый, резонирующий звук становится проявлением внутренней акустической сущности металла.
Диалоги (2019)
Алгоритмическая скульптура, взывающая к «душам машин», представляет собой диалог двух радиотрубок, оторванных от функционального прошлого и вовлечённых в тихую беседу на языке электромагнитных полей. Лишённые человеческих голосов, они общаются посредством микроскопических импульсов, генерируемых их собственными процессорами. Эти невидимые колебания улавливаются высокочувствительными датчиками и транслируются в акустическое пространство, формируя хрупкую, неповторимую звуковую партитуру. Её ритм и структура подчинены строгой логике контроллера — безмолвного дирижёра, чей алгоритм определяет длительность каждой «реплики» и паузы, выстраивая из электронных шумов и шёпота стройную поэму технической памяти.
Взаимодействие зрителя с инсталляцией начинается с ощущения присутствия при сакральном акте — наблюдения за разговором, происходящим на грани восприятия. Радиотрубки, лишённые утилитарной функции, трансформируются в медиумов, передающих скрытую, почти одушевлённую жизнь машин. Изначально зритель выступает в роли расшифровщика: его слух пытается найти смысл в, казалось бы, хаотичном потоке щелчков, свистов и фоновых шумов, рождённых электромагнитной активностью.
Это — попытка понять язык, не предназначенный для человека, но тем не менее обладающий внутренней логикой.
Со временем восприятие смещается: слух начинает выделять ритмические циклы, повторяющиеся паттерны и структурные паузы, приобретающие равную выразительную силу со звуками. Осознание присутствия невидимого дирижёра — программируемого контроллера — переводит опыт на метафизический уровень. Зритель перестаёт слышать лишь технические артефакты и начинает воспринимать эмоциональную окраску «электронных вздохов»: в них угадываются тоска, сдержанное напряжение или медитативное спокойствие.
Абстрактная звуковая ткань превращается в повествование — историю отчуждённых технологий, обретающих голос и память.
Кульминацией диалога становится физиологическое созвучие: ритм скульптуры, изначально воспринимаемый как чуждый, неожиданно вступает в резонанс с собственным дыханием и сердечным пульсом наблюдателя. В этот момент граница между человеком и машиной стирается — технология перестаёт быть бездушной и становится зеркалом человеческой ритмики. Завершая взаимодействие, зритель уносит с собой не просто эстетическое впечатление, а ощущение участия в глубоком разговоре о памяти материи, скрытой одушевлённости механизмов и возможности диалога между биологическим и техническим сознанием.
Заключение
Творчество Сергея Филатова ставит перед зрителем один из ключевых вопросов современного искусства: где проходит граница между художественным высказыванием и фиксацией объективного физического процесса? Его инсталляции сознательно создают ситуацию перцептивной неопределённости — слушатель не может однозначно решить, является ли звук результатом авторского замысла или лишь побочным продуктом работы электромагнитных полей, вибраций струн или шумов электронных компонентов. Именно эта двойственность и составляет ядро его художественного метода.
Филатов не просто демонстрирует природные или технические явления — он помещает их в особый эстетический и концептуальный контекст, в котором они обретают выразительную силу. Его работы — это не лабораторные установки, а тщательно сконструированные среды, где зритель вступает в прямой контакт с «голосом» материи.
Колебания металла, импульсы тока, резонансы вакуумных ламп — всё это перестаёт быть нейтральным физическим событием и становится носителем смысла.
При этом художник не противопоставляет науку и искусство, а раскрывает их глубинную взаимосвязь. В его практике законы физики перестают быть лишь инструментом и превращаются в материал, язык и даже соавтора произведения. Филатов выступает не как всесильный создатель, а как инициатор диалога — он задаёт условия, при которых неодушевлённые объекты получают возможность «заговорить».
Новосибирский государственный художественный музей и Галерея ТРИУМФ
«Сад ускользающих соноров» персональная выставка
Новосибирск, 2020-2021
Кульминация этого процесса наступает в момент, когда зритель перестаёт воспринимать звук как технический артефакт и начинает слышать в нём эмоциональную и смысловую нагрузку. Именно тогда лабораторный эксперимент трансформируется в подлинное художественное высказывание, а наблюдатель — из пассивного слушателя — становится активным соучастником, завершающим акт творения. В этом и заключается новаторство Филатова: он показывает, что искусство может рождаться не вопреки физике, а благодаря ей — через внимательное, почти медитативное прислушивание к скрытой поэзии материи.