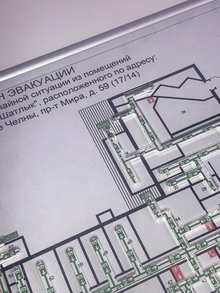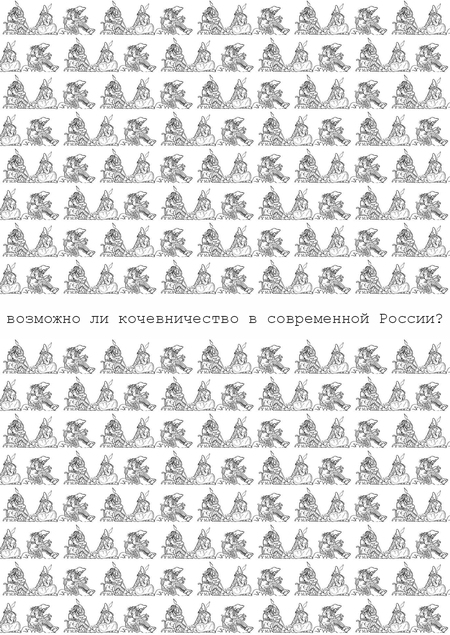
Возможно ли кочевничество в современной России?
КОЧЕВАТЬ — вести кочевнический образ жизни, а также, не имея постоянного места жительства, вести неоседлый, бродячий образ жизни.
(Кочевать, 2008)
Введение
В современном мире невозможно представить себе кочевников. При одной мысли o таком народе, наверняка, мелькают образы, навязанные учебниками истории, где люди показаны обездоленными, несчастными, грязными и в рваных одеждах. С течением времени и с развитием современных технологий, образ жизни человека в России и по всему миру претерпевает значительные изменения. Все больше и больше людей предпочитают устойчивое и стабильное проживание в городах, оставляя позади традиционные образы жизни, такие как кочевничество. Кочевничество, характеризующееся постоянными перемещениями народов, сопровождающимися жизнью в некой зависимости от природных ресурсов, является неотъемлемой частью истории России. С древних времен кочевые народы населяли просторы Сибири и Кавказа, а их образ жизни отражал близость с природой и уникальные традиции. Однако в условиях современной индустриализации, роста городского населения и изменения экономических приоритетов, кочевничество стало явлением, связанным с прошлым, а не с настоящим или будущим России. Дело в том, что при взаимодействии с государственной властью кочевничество стало объектом ассимиляции, угнетения и ограничений в свободе перемещения.
В своем эссе я хочу обратить внимание на деструктивные последствия государственного вмешательства в кочевнические общества и подчеркнуть необходимость пересмотра существующих политик и подходов с позиции деколониальной перспективы. Такой взгляд на вопрос кочевого образа жизни позволяет увидеть номадизм как равноценную и ценную форму жизни, требующую уважения и защиты. К счастью, деколониальная теория предоставляет нам инструменты для критического анализа влияния государственных политик на кочевые общества и их культурное наследие. Для данного исследования я буду опираться на теоретика Джеймса Скотта, в частности его книгу «Благими намерениями государства» (Скотт, 2005), книгу «Арктические зеркала» Юрия Слёзкина (Слёзкин, 2019) и «Коренное население крайнего севера» Николая Вахтина (Вахтин, 1993).

Существует ряд факторов, делающих кочевничество несовместимым с современной российской действительностью. Во-первых, современное общество стремится к стабильности, предсказуемости и развитию инфраструктуры. Устойчивое перемещение по просторам страны с ограниченными ресурсами и необходимостью периодической смены мест обитания противоречит требованиям современного образа жизни. Сегодня государству важно иметь доступ к месту, где проживает человек. Почему? Есть много вариантов: соображение безопасности, попытка более тщательного «изучения» своих граждан, установление контроля на территории личной жизни и другие.
Во-вторых, кочевничество тесно связано с приверженностью к традициям и устоявшимся образцам поведения. Современная Россия, государство, транслирует парадоксальные и противоречивые устои, которым гражданин должен следовать. С одной стороны, человек должен иметь духовную жизнь, быть религиозным, верующим, поддерживать всеми «любимые традиционные ценности». С другой стороны, государству крайне невыгоден регресс общества и экономики, поэтому среда бизнеса, особенно малого, пытается расширяться. Для этого вводятся законы, облегчающие ведение предпринимательской деятельности и система бонусов в виде меньшего процента налогов и другие «плюшки». Конечно, сфера работы, которая в России считается одной из самых важных сфер жизни человека, всегда привязывала к определенной точке на карте. Со времен СССР закон o тунеядстве укоренился в головах людей. Невозможно представить себе человека неработающего и при этом здорового и счастливого. Конечно, такая моральная установка делает кочевников в глазах других людей просто бедняками, которые вынуждены скитаться, а не делают этого потому, что хотят.
Итак, все глобальные причины непринятия кочевого образа жизни обществом связаны с установками государственного аппарата. Это как законодательный уровень, так и воздействие на моральную оценку и формирование ценностей граждан. Приведу пример из жизни. В одной из социальных сетей Ксения ведёт свой блог o по сути кочевом образе жизни. (Пономаренко, 2021) Девушке около 25 лет, работает онлайн. Она купила автодом и публикует видео и фото со своей собакой из совершенно разных уголков России: от Мурманской области до Дагестана. Конечно, эти видео и посты очень мотивируют, создают красивую картинку и наполняют нашу ленту сети красивыми картинками. Но рассматривается такой образ жизни как «путешествие», с расчетом, что вот сейчас это интересный опыт, но потом жизнь станет нормальной, как у всех. Получается, что ни общественность, ни СМИ не могут принять факт того, что это именно образ жизни, который может быть постоянным и не подстраиваться под рамки общественного мнения. Этот пример является проводником темы кочевничество в реальную жизнь людей.
Как создают установки
Разберемся с причинами такого непонимания людей, как можно вести такой образ жизни и восприятием его как «путешествия». Для анализа восприятия кочевничества рассмотрим работу Джеймса Скотта «Благими намерениями государства». В своей книге Скотт исследует роль государства в процессе формирования национальной идентичности и воздействие этого процесса на неприспособленные кочевые общества. Скотт утверждает, что государственная политика, основанная на европейских моделях государственности, ставила под угрозу культуру и образ жизни кочевых народов. С точки зрения деколониальной теории, кочевничество представляет собой альтернативный образ жизни, который оказывается неприемлемым для колониальной власти и современного национального государства. Кочевники часто описываются как «другие», не соответствующие стандартам развитого общества. Это создает предвзятые представления о кочевничестве, формирующие отрицательное восприятие в глазах граждан. Однако, деколониальная перспектива позволяет нам пересмотреть эти представления и исследовать, как наше восприятие кочевничества связано с колониальными стереотипами и неравенством.
Исходя из книги Джеймса Скотта «Благими намерениями государства», можно выделить несколько механизмов, которые государство применяет для создания образа кочевников как «других» и отношения к ним с недоверием или пренебрежением.
–– Стереотипизация и категоризация: Государство, основываясь на своих институциональных и политических структурах, применяет стереотипы и категории для классификации кочевых народов. Они могут быть представлены как непоследовательные, неприспособленные, примитивные или отсталые. Это создает образ «других», отличных от современного государственного и национального проекта.
–– Контроль и нормализация: Государство стремится контролировать и нормализовать образ жизни кочевников, стимулируя ассимиляцию и признание единой национальной культуры и идентичности. Это может проявляться в принуждении к стационарному образу жизни, отказе от традиционных номадических практик или насильственной переселенности в села или города.
–– Экономическое превосходство: Государство может использовать экономическую политику и ресурсное управление для установления доминирования сельского хозяйства, промышленности или других форм хозяйственной деятельности, которые несовместимы с традиционным образом жизни кочевников. Это может создавать зависимость и неравенство, что дополнительно подчеркивает «чужого» кочевника.
–– Идентификационная политика: Государство может применять политику, направленную на создание национальной идентичности, которая исключает или минимизирует кочевую культуру и историю. Это может проявляться в преобладании официального языка, исторической номенклатуры, праздников и символов, которые не отражают кочевую традицию и наследие.
Разберемся с каждым пунктом и тем, как они формировались на протяжении многих веков истории России.
Стереотипизация и категоризация
— Иначе говоря, представители коренного населения не имели права на льготы, если они не занимали руководящих постов. Это создало ситуацию, продержавшуюся почти до наших дней, когда, например, два строителя, юкагир и русский, работавшие в одной бригаде, получали разную зарплату за одну и ту же работу: у приезжего она была в три раза больше.
(Вахтин, 1993)
Используя книги «Арктические зеркала» Юрия Слёзкина и «Коренное население крайнего севера» Николая Вахтина, мы можем рассмотреть исторические примеры, демонстрирующие создание стереотипов и категоризацию кочевников в России. Стереотипизация кочевников как «диких» и «отсталых»: В истории России, особенно в отношении коренных народов Севера и Сибири, часто прослеживается стереотипное представление о «других». В книге «Коренное население крайнего севера» анализируется, как такие представления были распространены в колониальном контексте. Российская империя рассматривала коренных народов как неполноценные, не приспособленные к модернизации и цивилизации. В Советском Союзе деление на классы внутри межнационального управления сводилась к твоей народности. Это описывается на примере двух рабочих и других членов общества.
Контроль и нормализация
— Первым в 1929 году был образован Ненецкий национальный округ.
(Вахтин, 1993)
В Советском Союзе была проведена политика коллективизации, направленная на принудительный переход кочевников к стационарному образу жизни. Книга «Арктические зеркала» Юрия Слёзкина рассматривает этот процесс в отношении коренных народов Арктики. Кочевники были вынуждены покинуть свои традиционные земли и присоединиться к коллективным хозяйствам, что привело к потере их номадического образа жизни и культурных особенностей. В процессе контроля и нормализации кочевников, государство может подавлять и преследовать их традиционные культурные практики. В книге Николая Вахтина описывается, как советские власти запрещали и ограничивали традиционную охоту, рыболовство и другие основные средства существования коренных народов Севера. Это ограничение приводило к потере их культурной и экономической автономии. Государство может применять политику, направленную на принуждение кочевников к ассимиляции и потере их уникальных языков и идентичности.
Самым ярким примером именно попытки установления территориального контроля на Севере является создание национальных округов. То есть, для внедрения крупной промышленности, был создан административный аппарат со стороны государства и присвоены земли под непосредственное промышленное освоение. Возможность перекроить карту досталась государству и оно ей воспользовалось так, как это нужно экономике, а не людям, которые эту землю населяют. Получается, что создание структуры власти с центром для «работы» в любом случае приводит к тому, что круг возможных для кочевничества территорий уменьшается. Конечно, это росло в геометрической прогрессии и можно сказать, что просто не осталось нетронутого куска земли, несмотря на огромную площадь нашей страны.
Экономическое превосходство
Как раз-таки отсюда выносится следующий пункт — экономическое превосходство. Российская империя и Советский Союз преследовали экономические интересы, эксплуатируя эти ресурсы для своей выгоды, ограничивая при этом доступ и права кочевников на использование своих традиционных земель. В работе «Арктические зеркала» Юрия Слёзкина рассматривается процесс привлечения коренных народов Арктики к сфере труда и экономической зависимости от государства. Кочевники были вынуждены работать в колхозах, совхозах и промышленных предприятиях, становясь трудовыми ресурсами для государственных нужд. Это создавало экономическую зависимость кочевников и усиливало контроль государства над их жизнью и ресурсами. В книге Джеймса Скотта рассматривается пример колониальной эксплуатации в различных странах. В контексте России это может включать использование коренных территорий для добычи полезных ископаемых, лесозаготовки или создания промышленных объектов, что приводило к утрате контроля кочевниками над своими землями и экономической зависимости от государства.
Идентификационная политика
Государство может применять политику, направленную на принудительную ассимиляцию кочевников и стирание их культурной идентичности. В книге Вахтин рассматривает, как советские власти подавляли и запрещали традиционные культурные практики кочевников и насаждали на них русский язык, образование и культуру. Это приводило к потере их языка, обычаев и традиций, что осуществляло политику идентификационного преобразования. Государство может использовать пропаганду и создавать стереотипы, чтобы формировать определенное представление о кочевниках и их идентичности, как раз базируясь на уже созданных подавленных культурных ценностях. То есть, перестройка моральных норм человека — процесс долгий, а когда он еще и принудительный, неудивительно, что он может затянутся на долгие годы. Таким образом, навязанное изменение напрямую создает стереотип o «других». Человеку сказали поменяться, надавили на него. Переступив через себя, он начинает работать в этом направлении, но это не быстрый процесс и от этого все вокруг могут счесть его «отсталым», «диким» или «непригодным» для современной цивилизации, но это не так, а стереотип уже существует и дегуманизирует такого человека.
Документ как инструмент
Соединив все вышеперечисленные пункты, на авансцену выходит очень интересный фактор — наличие определенного документа для установки личности гражданина и его места жительства. С точки зрения деколониальной теории и вопроса кочевых народов, документы, такие как паспорт, прописка, полис и страховка, могут быть рассмотрены как инструменты контроля, нормализации и подчинения кочевых народов в России. В книге «Арктические зеркала» Юрия Слёзкина обсуждается, как советское государство ввело систему прописки для коренных народов Арктики. Это ограничивало их свободу перемещения и привязывало их к определенным территориям, контролируемым государством. Паспорт, в свою очередь, является документом, удостоверяющим личность и гражданство, и может быть использован для регистрации и идентификации кочевников в системе государственного контроля.
Документы также могут способствовать ассимиляции кочевых народов. В работе «Коренное население крайнего севера» Николая Вахтина рассматривается, как государство насаждало регистрацию населения и формировало систему учета, основанную на западных моделях и социальных стандартах. Это создавало давление на кочевников для соответствия этим нормам и стандартам, что способствовало их ассимиляции в рамках доминирующей культуры и общества. Документы, связанные с медицинским и социальным обеспечением, такие как полис и страховка, могут использоваться для распределения ресурсов и привилегий между населением. В работе Джеймса Скотта «Благими намерениями государства» обсуждается, как государство может использовать социальные программы и страховые системы для контроля и регулирования жизни кочевых народов. Это позволяет государству устанавливать параметры доступа к социальным услугам и ресурсам, что может создавать неравенство и исключать кочевников из полноценного участия в общественной жизни.
Таким образом, документы, иметь которые обязан каждый гражданин России, могут контролировать жителей страны и «следить» за тем, чтобы никто не двигался со своего место, которое это государство и указало человеку. При такой системе кочевой образ жизни невозможен. Как минимум прописка уже привязывает людей юридически к какому-то адресу. Конечно, там можно и не проживать, но факт наличия адреса в системе уже существует и закрепляет человека к точке на карте.
Заключение
Подводя итоги, можно увидеть, что даже благие намерения государства могут иметь негативные последствия для этих сообществ, не говоря уже o умышленных негативных идеях. Государственные институты часто стремятся к контролю и нормализации населения с целью создания единого и управляемого общества. В контексте кочевничества, государственная машина может видеть кочевников как «других» или «отклоняющихся» от установленных норм и стандартов общества. Этот аппарат может пытаться «укрощать» кочевников, ассимилировать их в существующую культуру и перевести их на постоянное жительство. Кочевники обладают богатыми традициями, культурой и знаниями, приспособленными к условиям их жизни. Принуждение их к смене образа жизни и адаптации к стандартам государства приводит к потере исторической и культурной идентичности, утрате традиций и знаний, которые передавались поколениями. Именно государство определяет критерии доступа к социальным услугам, образованию, земле и другим ресурсам, что может создавать неравенство. Все приведенные пункты предоставляют основу для размышлений о том, как развивать политику и практику, уважающую и поддерживающую кочевнические сообщества и их уникальные образы жизни.
Библиография
–– Вахтин, Н. 1993. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. Книжный архив. Available at: https://www.klex.ru/1487 (Accessed: 16 June 2023).
–– Кочевать. 2008. Толковый словарь ожегова онлайн. Available at: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12165 (Accessed: 16 June 2023).
–– Скотт, Д. 2005. Благими намерениями государства. Библиотека Анархизма. Available at: https://ru.theanarchistlibrary.org/library/djejms-skott-blagimi-namereniyami-gosudarstva (Accessed: 16 June 2023).
–– Слёзкин, Ю. 2019. Арктические зеркала. Электронная библиотека книг iknigi.net. Available at: https://iknigi.net/avtor-yuriy-slezkin/177318-arkticheskie-zerkala-yuriy-slezkin/read/page-1.html (Accessed: 16 June 2023).
–– Пономаренко, М. 2021. ‘Природа России меня просто поразила’ как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране? Lenta.RU. Available at: https://lenta.ru/articles/2021/11/13/travel/ (Accessed: 16 June 2023).